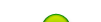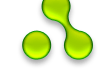Нейрореаниматолог Л.М. Попова подчеркивает, что под
смертью мозга понимается тотальный некроз или инфаркт мозга, включая ствол и
первые шейные сегменты *(368).
Биологическая смерть (церебральная) определяется
традиционно по пяти признакам:
- полное отсутствие сознания и спонтанной
активности;
- полное исчезновение спонтанного дыхания даже
при гиперкапнии (избыток углекислого газа в крови);
- фиксированный, с отсутствием рефлексов
двусторонний мидриаз, неподвижность глазных яблок;
- исчезновение рефлексов от мозгового ствола;
- ровная ("нулевая")
электроэнцефалограмма, т.е. полное отсутствие электрического сигнала на двух
записях в течение не менее шести часов *(369).
Академик Б.В. Петровский пишет, что истинной,
или биологической, смертью может быть названо только такое состояние, когда
функции всех жизненно важных органов - сердца, мозга, легких, печени, почек -
находятся в необратимом состоянии. "Природа установила" жесткие
временные границы восстановления функции мозга - всего 6 минут после остановки
сердца и прекращения кровоснабжения в системе мозговых сосудов" *(370).
Не без оснований академик АМН СССР, патриарх
отечественной реаниматологии В.А. Неговский, в 1980 г. ввел понятие "социальная смерть",
"которая соответствует необратимому изменению и отмиранию больших
полушарий, белого вещества мозга и некоторых подкорковых структур. Каждое из
таких повреждений, не вызывая физической смерти человека, ведет к уничтожению
его личности. Больной, у которого погиб мозг, но работа сердца продолжается,
представляет собой, как принято говорить, "сердце-легкие", т.е. в
буквальном смысле слова - живой труп" *(371).
Возникает вопрос о продолжении или прекращении
поддерживающих жизнь процедур при картине так называемой клинической смерти.
Этот вопрос стал особо актуальным в результате развития возможностей
интенсивной терапии при апаллических или, говоря современным языком, стойких
вегетативных состояниях. Любые методы прогнозирования вероятности неминуемого
летального исхода из наблюдаемого критического состояния всегда относительны и
требуют, руководствуясь признанием человеческой жизни как высшей ценности,
активных попыток реализации даже минимальных шансов сохранения жизни и личности
больного. При отсутствии каких-либо внешних признаков сознания жизнь личности
может продолжаться и в этом состоянии, о чем свидетельствуют воспоминания
больных после восстановившегося сознания - не столько о каких-то сюжетах,
сколько об эмоциональных переживаниях, сохранившихся с периода бессознательного
состояния, и, главное, отношения личности к ним. При такой ситуации вновь со
всей остротой встает вопрос о временной границе жизни и смерти.
"Именно понимание того, что между жизнью и
смертью есть такое промежуточное состояние, получившее название
"клиническая смерть", - пишет академик В.А. Неговский, - служит
теоретическим обоснованием бороться за жизнь больного даже в этих случаях и
условиях. Естественно, что эта борьба имеет смысл лишь тогда, когда в организме
нет необратимых изменений в тканях и органах" *(372).
Клиническая смерть сопровождается остановкой
сердца. Но современная медицина с помощью проведения реанимационных мероприятий
может "вернуть человека к жизни". Восстановить сердцебиение удается сегодня даже через
несколько часов после его остановки. Иными словами, клиническая смерть может и
не стать необратимой. Соответственно лицу, находящемуся в таком
состоянии, должна оказываться помощь. Более того, ст. 124 УК предусматривает
ответственность медицинского работника за неоказание помощи больному.
Конечно, деятельность головного мозга у умирающего человека может
зачастую фактически отсутствовать, однако достижения современной медицины
позволяют продлевать функционирование остальных органов очень долго. Это
обстоятельство заставляет нас признать тот факт, что продолжение биологической
жизни возможно и без деятельности мозга как таковой. Таким образом,
смерть головного мозга далеко не всегда напрямую констатирует полную и
окончательную смерть человека как биологического организма.
Легко ли диагностировать момент биологической,
мозговой смерти? Врачи утверждают, что "весьма трудно, а подчас эти
трудности непреодолимы" *(373).
Бесспорно, точная диагностика требует высокого
профессионализма медицинских работников и современного научно-технического
оснащения.
По заявлениям врачей (Л.М. Поповой, В.А.
Неговского) с наибольшей точностью диагноз смерти мозга может быть установлен с
помощью инструментальных методов: электроэнцефалографии, ангиографии и др. *(374).
Однако ошибки не исключены и при ЭЭГ. Причин
ошибок может быть несколько. В процессе изучения смерти мозга источником
диагностических ошибок служат помехи, возникающие при регистрации ЭЭГ. Помехи
возможны как от самих электродов, так и от их соединений. Металлические диски
электродов могут сместиться, а контактная паста или гель - высохнуть. Причиной
многих артефактов иногда являются окружающие больного предметы. Сотрясение
кровати и проводников, движения больного (особенно его головы) могут искажать
истинную картину ЭЭГ *(375).
Л.М. Попова вынуждена признаться, что "ЭЭГ - критериев для
достоверного диагноза смерти мозга может быть недостаточно, в частности,
отсутствие электрической активности мозга она наблюдала и без наступления
смерти мозга - при гипотермии, отравлении, интоксикации" *(376).
И по суждению А.П. Громова, "наличие так
называемой немой энцефалографии не всегда позволяет констатировать смерть
мозга" *(377).
Итак, становится очевидным, что "практически
каждый инструментальный, лабораторный или нейрофизиологический метод
диагностики смерти мозга не лишен информационных недостатков. Конечно, частота
диагностических ошибок значительно ниже в специализированных, современно
оснащенных больницах при наличии кадров высокой квалификации. Однако, тем не
менее, и они не застрахованы от драматических ошибок. Число этих ошибок можно
свести к минимуму при трезвом, критическом отношении к машинной, лабораторной
диагностике и при обязательном, самом серьезном анализе общеклинической
симптоматики смерти мозга, смерти человека" *(378).
Однако и сегодня возможности применения
практикующими врачами современных инструментальных критериев смерти мозга
весьма ограниченны. Даже врачам клинических лечебных учреждений США
сравнительно нечасто представляется такая возможность. "При
инспектировании крупных больниц США выяснилось, что диагноз смерти на основании
смерти мозга был установлен менее чем в 5% случаев" *(379).
В наших же больницах сплошь и рядом диагноз
смерти мозга ставится без аппаратных тестов, по так называемой общеклинической
симптоматике.
Определенную информативную ценность сегодня
приобрели исследования мозговых цефалических рефлексов: реакция зрачков на
свет, роговичный, хоботковый, глоточный, глотательный, кашлевой, мандибулярный
и др.
Процесс умирания, драматически узкий отрезок
времени, всегда сопровождается раскрытием зрачков. Несомненно, что это защитная
и, к сожалению, прощальная мера организма, пытающегося усилием притока света
спасти угасающие механизмы жизни *(380). Крупнейший российский невропатолог
Н.К. Боголепов утверждал, что "любой агонизирующий больной с исчезнувшими
биениями сердца и дыхания, но с узкими зрачками не безнадежен и требует
реанимации" *(381).
При выявлении роговичного рефлекса одностороннее
раздражение роговицы вызывает смыкание век с обеих сторон, и если такая реакция
имеется, ее легко констатировать. Однако, по А.Э. Уолкеру, отек или высыхание
роговицы могут препятствовать вызыванию рефлекса в ответ на адекватное
раздражение. Этот рефлекс отсутствует практически у всех больных с
электрическим молчанием мозга на ЭЭГ. Этот же автор изучил и описал глазной
феномен куклы, у которой при резком повороте головы глаза в норме
содружественно отклоняются в противоположную сторону. Однако у человека при
смерти мозга глаза остаются в прежнем положении *(382).
В практике диагностики смерти мозга применяется
также атропиновый тест. В состоянии смерти мозга сердечная деятельность
находится под воздействием только симпатической нервной системы при полном
отсутствии влияния внутричерепного отдела парасимпатической системы. Поэтому
после введения 2 мл атропина учащение пульса не происходит *(383).
"При бесспорном установлении смерти мозга
отказ от реанимационных мероприятий можно производить только: 1) по истечении
20-25 минут с момента установления этих признаков, если до остановки сердечной
деятельности реанимационные мероприятия не применялись или применялись не в
полном объеме, а после остановки сердца реанимация по тем или иным причинам не
применялась; 2) через 30 минут после установления перечисленных признаков, если
реанимационные мероприятия были начаты после остановки сердца, но, несмотря на
проведение всего комплекса, они оказались безрезультатными, а именно: не
привели к восстановлению сердечной деятельности, а продолжающийся массаж сердца
не привел к появлению пульса на сонных артериях в соответствующем ритме,
исчезновению цианоза, появлению спонтанного дыхания или сужению зрачков; 3)
тотчас после остановки сердца при установлении перечисленных признаков, если
состояние смерти наступило на фоне применения полного комплекса реанимационных
мероприятий, показанных данному больному" *(384).
Как уже было отмечено, биологи и медики стали
различать смерть клиническую, при которой возможна реанимация организма, и
смерть биологическую, наступающую с необратимой утратой основных функций мозга
("смерть мозга"). Однако разработать методику, позволяющую абсолютно
точно констатировать в каждом конкретном случае наступление конца человеческой
жизни, т.е. провести четкую грань между смертью клинической и биологической, до
сих пор не удается. Известны
многочисленные случаи возвращения человека к жизни, "клиническая смерть
которого длилась значительно дольше предполагаемого времени (3-5 минут), иногда
даже после весьма значительной паузы, последовавшей за тщетными усилиями
реаниматологов" *(385). Все это
позволяет танатологам сделать вывод: смерть человека в естественно-научном
смысле есть не одномоментный акт, а длительный стадийный процесс, имеющий к
тому же индивидуально неповторимую специфику.
Современная медицина достигла такого уровня, что
даже в случае наступления церебральной смерти внешние функции организма
человека с помощью определенных медицинских мероприятий могут поддерживаться
бесконечно долго. Это достигается за счет искусственного способа создания
видимости жизни: легкие вентилируются, сердце перегоняет кровь. Фактически же
реанимационные мероприятия проводятся над трупом.
При этом, исходя из изложенных ранее
концептуальных основ проблемы, приходим к выводу, что эвтаназии нет в случае
прекращения реанимации, когда состояние церебральной смерти является необратимым
(лечение уже не дает никакого результата, а лишь продолжает время агонии). При
отрицании этого возникают следующие проблемы: 1) бессмысленные страдания
причиняются родственникам уже фактически умершего человека; 2) родственники и
больничное учреждение несут расходы по поддержанию деятельности организма,
которые могут быть потрачены на того человека, которому они действительно могут
помочь; 3) в силу развития трансплантологии тело человека становится
потенциальным набором жизненно важных органов, которые являются не только
средством спасения, но и средством материального обогащения. Возлагается
дополнительная ответственность на врача, которая связана и с возможными исками
родственников, не смирившихся с утратой близкого человека. Если такие иски
начнут удовлетворяться, врач будет избегать пороговых ситуаций, боясь
последующего привлечения к уголовной ответственности.
В конечном счете, как отмечает Г.Б. Романовский,
"больницы будут представлять собой огромные реанимационные блоки по
поддержанию внешних признаков жизнедеятельности умерших людей" *(386).
Вообще надо сказать, развитие реаниматологии как
науки о восстановлении жизненных функций умирающего организма и внедрение в
медицинскую практику методов восстановления деятельности остановившегося сердца
и функций мозга (в частности, самостоятельного дыхания) привели к кардинальному
изменению критериев смерти. Следует полагать, что ближайшее будущее внесет
новые коррективы в определение момента начала жизни и момента смерти. Но и
сейчас, с учетом уже имеющихся достижений медицинской науки, целесообразно
обратиться к исследованиям этих проблем с точки зрения так называемой
унификации, т.е. предположить, что началом жизни человека и моментом его смерти
являются соответственно появление и прекращение одной и той же функции
организма.
Все вышеприведенное, как нам представляется, с
очевидностью обусловливает необходимость четкого юридического закрепления
момента смерти человека. При этом следует особо подчеркнуть, что право выделяет
именно момент - юридическую фикцию, как правильно отмечают некоторые авторы.
"Для права неприемлемо постепенное угасание личности человека, постепенная
утрата его правоспособности, постепенное исчезновение его личных,
лично-имущественных и имущественных прав. Поэтому юриспруденция не
придерживается медицинских критериев, а создает для своих потребностей
юридическую фикцию, которая отождествляет смерть с моментом" *(387).
При отсутствии четких критериев момента смерти
возможны злоупотребления как в ту, так и в другую сторону. Или человека
преждевременно будут отключать от систем жизнеобеспечения или при фиксации
смерти головного мозга будут поддерживать видимость жизнедеятельности в трупе,
чтобы отложить время, например, открытия наследства и т.д. Это связано с тем,
что факт смерти имеет важное юридическое значение. Гражданское процессуальное
законодательство устанавливает даже специальную процедуру - признание лица
умершим. При наличии данного юридического факта можно утверждать и об открытии
наследства, и о необходимости расследования убийства как противоправного деяния
и т.д.
Любопытную мысль мы встречаем у Ю.А. Дмитриева.
"Объективности ради отметим, что вопрос жизни и смерти в современных
условиях из медицинской и нравственной сфер переходит в сферу политики. Заранее
приносим читателям извинения за элементы цинизма в наших рассуждениях, однако
приведем пример: принцип престолонаследия позволяет заменить Князя Монако Ренье
III, который по решению Коронного совета Княжества не мог выполнять свои
высокие обязанности, регентом, принцем Альбертом и поддерживать сколь угодно
умиравшего монарха в "стабильно тяжелом состоянии", а замена
понтифика на престоле католической церкви была невозможна при жизни Папы
Римского. Видимо, поэтому Князь Ренье III находился в терминальном состоянии, а
Папа Иоанн Павел II физически и юридически умер" *(388).
В качестве примера можно также привести кончину
Ясера Арафата, находившегося в глубокой коме во французском военном госпитале
Перси под Парижем. Было определено, что Арафат умрет только после достижения
заинтересованными сторонами двух договоренностей - о его похоронах и о
преемнике. Так, источник телекомпании в администрации США заявил о том, что
аппаратура, поддерживающая жизнь Арафата, будет отключена, как только
официальные лица Франции, США, Израиля, а также Египта договорятся о его месте
погребения.
Российское современное медицинское
законодательство умалчивает о порядке и основаниях констатации смерти человека *(389). Данный чрезвычайно важный и
юридически значимый факт получил в свое время закрепление во Временной
инструкции для определения биологической смерти и условий, допускающих изъятие
почки для трансплантации, которая была утверждена еще приказом Министерства
здравоохранения СССР от 23 марта 1977 г. NN 255. В частности, в данном
документе было установлено, что одним из условий изъятия почки у трупа для
трансплантации является истечение 30 минут после бесспорного установления
биологической смерти, наступившей несмотря на проведение всего комплекса
реанимационных мероприятий в течение необходимого срока, и признания
бесперспективности дальнейшей реанимации.
Как уже было сказано, в настоящее время при
юридическом определении момента утраты права на жизнь руководствуются
Инструкцией по определению критериев и порядка определения момента смерти
человека, прекращения реанимационных мероприятий, утвержденной приказом NN 73
Министерства здравоохранения РФ от 4 марта 2003 г. Указанный нормативный
документ недостаточно авторитетен в правовом смысле для решения столь
серьезного вопроса.
Официальное определение момента, который с
медицинской и юридической позиции должен считаться моментом наступления смерти,
должно быть решено на уровне федерального законодательства.
В связи с этим целесообразно принять Федеральный
закон "Об определении критериев момента смерти человека, прекращения
реанимационных мероприятий".
Таким образом, если с медицинской точки зрения
смерть человека - это последовательно протекающий и достаточно длительный
биологический процесс, характеризующий переход человека из бытия в небытие, то
с точки зрения права смерть отождествляется с моментом (юридическая фикция).
Заметим, что ни в одной сфере правоотношений (гражданских, семейных, трудовых,
социального обеспечения и др.) установление именно момента (а не даты) смерти
не имеет столь важного значения, как в уголовном праве, в частности, в случае
констатации смерти донора, чей трансплантат предполагается применить в целях
пересадки реципиенту.
Поднятые проблемы имеют основополагающее
значение для законодательства о здравоохранении. В частности, диагностика
смерти мозга в значительной степени снимает необходимость обращения врачей к
умерщвлению больных в стойком вегетативном состоянии путем прекращения
жизнеподдерживающих процедур, поскольку смерть мозга при соблюдении
определенных условий является критерием естественной смерти человека. Точное
установление момента наступления смерти чрезвычайно важно для разрешения
вопроса о праве на пересадку органов умершего и т.п. Кроме того, точное
определение начала и конца жизни человека имеет ключевое значение в
уголовно-правовом аспекте.
Осознают данную проблему не только медики или
правоведы. Даже Папа Пий XII поднял вопрос о важности установления момента
смерти: "Для врача и особенно анестезиолога существует необходимость дать
четкое и точное определение понятий "смерть" и "момент
смерти" в отношении больного, находящегося в данное время в
бессознательном состоянии" *(390).
Законы большинства стран требуют, чтобы факт
смерти был удостоверен врачом, но в настоящее время сам врач затрудняется найти
четкую границу между жизнью и смертью. Сегодня нет простых и надежных критериев
смерти (нельзя же считать критерием определение, принятое ООН: "Смерть -
это постоянное отсутствие любого признака жизни").
Отсутствие должной правовой регламентации
указанных вопросов, а также вопросов, связанных с применением (неприменением)
реанимационных мероприятий, в том числе с определением субъектного состава лиц,
уполномоченных принимать соответствующие решения, распоряжение органами и
тканями человека после клинической смерти и т.п. криминализует подобные
отношения и делает во многом невозможным дальнейшее развитие медицины.
Следует подчеркнуть, что, хотя смерть мозга
фактически равноценна гибели всего организма как биологической сущности, но все
же не эквивалентна этому процессу. В этом кроется серьезная проблема - не
только медицинская или юридическая, а скорее духовная, нравственная. Вместе с
тем в подавляющем большинстве случаев именно в ситуациях свершившейся смерти
мозга, но при продолжении биологической жизни остальных органов, необходимо
экстренно решать вопрос о трансплантации. Фактически здесь и возникает грань
между смертью конкретного человека как личности (она уже состоялась вместе со
смертью мозга) и как биологической сущности (она еще некоторое время, возможно,
весьма длительный период, продолжается).
Таким образом, если проанализировать сложившиеся
медицинский и правовой подходы к определению смерти и моменту ее наступления,
то следует подчеркнуть, что для юридической констатации данного факта и
соответственно производства в уголовно-правовом порядке последующих значимых
действий медицинское заключение является обязательным и необходимым - в данном
случае оно носит правообразующий характер.
Итак, проблемы, связанные с эвтаназией и
юридической ответственностью за нее, должны рассматриваться в контексте права
на жизнь, которое относится к числу основных личных прав человека. Данное право
гарантирует существование человека как биологического существа и субъекта
общественных отношений. Содержание, соблюдение и защита права на жизнь порой
является предметом острых дискуссий, поскольку затрагивает широкий спектр
различных сфер жизнедеятельности общества и государства: право, политику,
мораль, религию, философию, медицину. В нашем понимании право человека на жизнь
- это естественная, неотъемлемая возможность защиты неприкосновенности
человеческой жизни и свободы распоряжения ею, гарантированная нормами
международного и национального права.
Право на жизнь имеет достаточно сложную
структуру, одним из основных элементов которой является право на свободное
распоряжение своей жизнью.
Право на свободное распоряжение своей жизнью как
структурный элемент права на жизнь следует рассматривать как возможность
добровольного принятия лицом решения о поставлении своей жизни в опасное
положение, обусловленное свободным волеизъявлением, направленным на достижение
некой положительной цели личного или общественного характера.
В соответствии с данным определением право на
свободное распоряжение своей жизнью не должно рассматриваться слишком широко.
Оно не может включать в себя право на смерть, так как реализация данного права,
как правило, не преследует положительных целей, не направлена на достижение
общественного блага.
Отсутствие права на смерть обусловливает и
отсутствие права на эвтаназию, так как человек не имеет права распоряжаться
своей, а тем более, чужой жизнью с целью ее прекращения.
В современной правовой литературе наблюдается
плюрализм мнений по вопросу легализации эвтаназии. Высказываются и
обосновываются противоположные точки зрения: от полного запрета эвтаназии до ее
полной легализации. Есть и промежуточные позиции, например, легализация только
добровольной пассивной эвтаназии, которая встречается в медицинской практике и
имеет латентный характер.
| Поиск |
| Календарь |
| Друзья сайта |